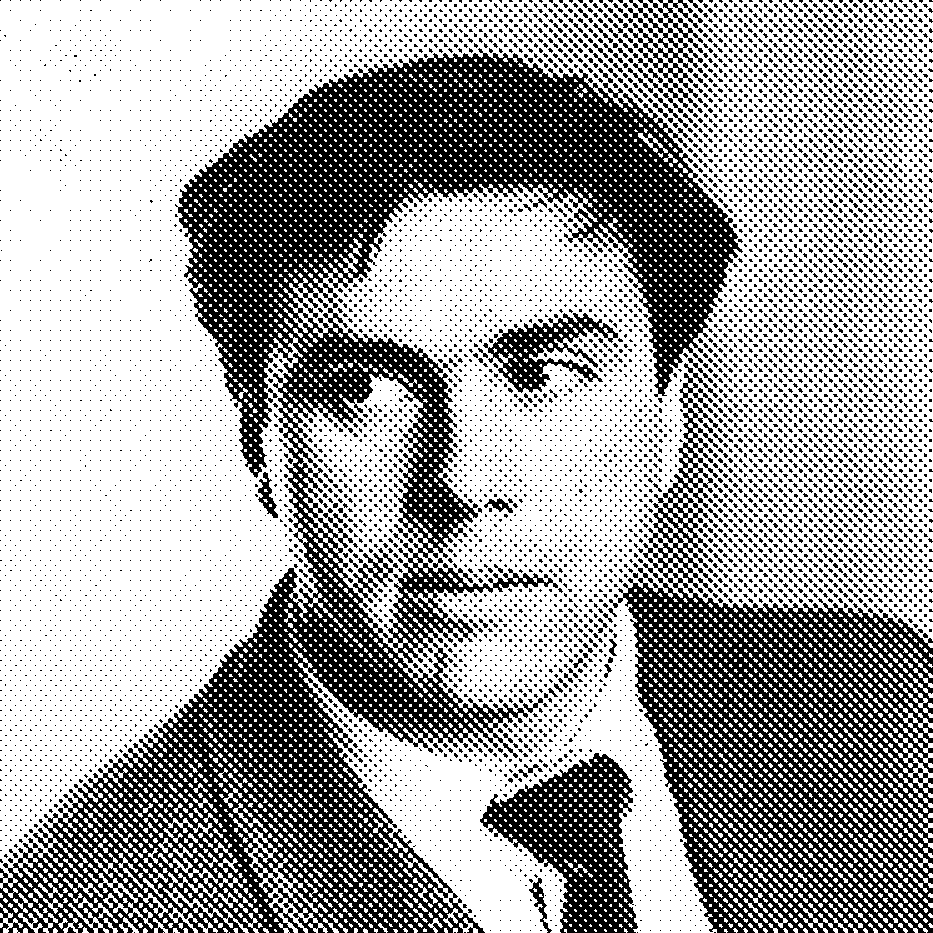С сентября по ноябрь в Творческом индустриальном кластере «Октава» проходила выставка художника Павла Отдельнова «Заводские Анекдоты». Уже значительно позже нам удалось пообщаться с автором о творчестве, ужасах химического производства времён СССР и будущем.

Павел Отдельнов. Фото: Елена Михайличенко
Первый вопрос, возможно, банален, и всё же хотелось бы его задать. Ещё в сентябре в Туле открылась Ваша выставка «Заводские анекдоты». Другие её версии уже видели свет и завоевали определённую популярность среди ценителей искусства. С чего началась история этой выставки?
Можно сказать, что у моей выставки есть две предыстории. Первая связана с тем, что одиннадцать лет назад мы с моим другом Егором Плотниковым ездили на металлургические заводы Новокузнецка в творческую поездку, по итогам которой написали по серии картин. Это было моё первое погружение в индустриальную тему. От этой поездки остались очень яркие впечатления, и к этой теме хотелось вернуться.
Вторая предыстория биографическая. Я родился в городе Дзержинске, в советские годы это был один из главных центров химической промышленности. Три поколения моих предков работали на заводах этого города. Мой папа родился в посёлке, который находился в промзоне, и всю свою жизнь проработал на заводах в радиусе пары километров от места своего рождения. Я, когда учился в Нижнем Новгороде, каждый день проезжал мимо этих производств, но они никогда не казались мне чем-то интересным. Несколько лет назад папа сделал для меня пропуск на один из этих заводов, чтобы помочь со съёмкой одного из корпусов. Мы немного проехали по территории и обнаружили, что папин цех, в котором он работал в 80-х, снесли. Это был один из самых вредных цехов, он производил хлористый алюминий. Папа защитил диплом, в котором предлагал усовершенствовать технологию этого производства, и после защиты работал начальником смены в этом же цехе.
Мы попытались найти, что осталось от посёлка, где он родился, но от него почти не осталось следов. Тогда я почувствовал, как быстро исчезает недавнее прошлое, не оставляя никаких следов. Я стал чаще приезжать в мой родной город и ходить по промзоне. На какие-то заводы у меня получалось получить пропуск, на другие я пролезал через заборы. Я проводил много времени в филиале библиотеки имени Ленина. В отделе газет я перелистал все подшивки заводских газет за советские годы. Познакомился с краеведами Дзержинска, которые мне очень помогли с поиском информации об истории заводов и посёлка. Результатом этого стали несколько выставок, которые я делал в разных городах: «Территория накопленного ущерба» в Московской галерее «Беляево», «Доска почёта» в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств, «Белое море. Чёрная дыра» в нижегородском ЦСИ «Арсенал», «Руины» в самарской галерее «Виктория» и «Химзавод» в нижегородской галерее «Футуро», и последняя выставка здесь, в тульском индустриальном кластере «Октава».
Какими чувствами сопровождалось это Ваше исследование?
Когда ходишь по заброшенным цехам, то само собой возникает чувство присутствия: как будто кто-то идёт следом. С потолков капает вода, хлопают оконные рамы, сквозняк переворачивает ворох старых бумаг, на каком-то этаже гулко громыхает дверь. Эхо смешивает все эти звуки, и кажется, что эти места населены. Везде есть следы присутствия — календари, вырезки из «Огонька», рабочие журналы. Кажется, что только что здесь был кто-то. Заводские газеты создают впечатление, что в каком-то параллельном мире всё продолжается: чествуют стахановцев и заслуженных юбиляров, пропесочивают пьяниц и «несунов». Каждая новая газета вместе с фотографиями и статьями вызывает сильнейшее чувство дежавю. Кажется, что всё описываемое в газетах всё время повторяется, что это бесконечность, которая не может кончиться по определению.
Иногда охватывает чувство ужаса. Например, когда узнаёшь о производстве боевых отравляющих веществ и о том, чего это стоило рабочим. И досадное чувство оттого, что эти люди забыты, а их самоотверженный труд оказался просто не нужен. Химическое оружие, выпускавшееся на дзержинских заводах, никогда не было применено. Чувство ужаса вызывает и то, в каких условиях жили и работали люди и насколько опасной была их работа. Но главное чувство — это то, что каждый целый или разрушенный цех, каждая яма хотят мне что-то рассказать. Как будто бы где-то есть резервуар, в котором сохранена вся память и вообще всё, что происходило. В моём большом проекте метафорой такого резервуара памяти стали шламонакопители для отходов химических производств, которые в народе называют «Белое море» и «Чёрная дыра».
О боевых отравляющих веществах: что именно производили в Дзержинске?
В Дзержинске производили целый букет боевой химии: люизит, хлорацетофенон, синильную кислоту, фосген, но основным продуктом до 1942 года был иприт Левинштейна, а после 1942 — «зимний», незамерзающий иприт Зайкова. Производства БОВ (боевых отравляющих веществ) были налажены в основном в 1939 году.

Павел Отдельнов «Руины. Газгольдер». 2018. х.м. 150х200
Работал ли с ними Ваш отец или другой родственник?
Моя бабушка, к счастью, совсем недолго проработала на одном из таких производств, её вскоре перевели на строительство нового производства — советского плексигласа или оргстекла. К счастью, — потому что большинство тех, кто работал с отравляющими веществами, прожили совсем недолго.
Вот что писал о производстве иприта инженер, проработавший всю жизнь на заводах Дзержинска, и хорошо знавший этот цех Исаак Борисович Котляр:
«Производство иприта было довольно примитивным, без современных технических средств защиты. Воздух в цехе был насыщен парами иприта; частые проливы убирали с помощью древесных опилок, а затем пол дегазировали хлорной известью. Ни противогаз, ни резиновый комбинезон, ни сапоги и перчатки не спасали от поражений кожи, слизистой глаз и дыхательных путей. Поэтому каждая смена имела двойной состав. Одни работали, а другие лечились. Запомнился один случай, когда рабочий по фамилии Борисов начал вытирать крышку облитого ипритом аппарата, не надев защитной одежды. При этом еще и ложился грудью на аппарат. Он скончался через несколько дней. Вымирание пострадавших в этом цехе началось уже после войны, в основном в 50-е, 60-е и 70-е годы (в зависимости от глубины отравления и образа жизни). Умирали от сердечно-легочной недостаточности, которая медленно, но неизбежно прогрессировала. И не поддавалась никакому лечению».
Что стало с веществами, раз их никогда так и не использовали?
К началу 50-х годов производства БОВ законсервировали, Исаак Борисович как раз занимался консервацией цеха по производству иприта. В конце 40-х и начале 50-х произошла конверсия, заводы перестроились на выпуск продукции в мирных целях. Этому отчасти способствовало то, что после войны из Восточной Германии стали привозить «трофейные» производства и технологии. Так, например, в Дзержинск из немецкого Биттерфельда привезли производство Капролактама. В 90-е годы Россия подписала Конвенцию по запрещению разработки, производства, хранения и использования химического оружия и его уничтожению. К концу нулевых годов в Дзержинске не осталось ни одного из производств БОВ, а склады химического оружия были полностью ликвидированы.
Уинстон Черчилль говорил, что генералы всегда готовятся к прошедшей войне. И это применимо к производству химического оружия во время Второй мировой войны, в ожидании, что оно будет также востребовано, как в Первой. Но в Германии в конце тридцатых-сороковых тоже производили огромное количество БОВ, и, возможно, немцы применили бы его, если бы в СССР не было складов, заполненных химавиабомбами с ипритом Зайкова. Хочется думать, что эти склады послужили сдерживающим фактором и что люди, работавшие в опасных цехах, травились и гибли не напрасно.

Павел Отдельнов. «Руины. Цех 538». 2018 х.м. 150х200
Три поколения предков — на заводах нашей страны. А почему Вы стали художником?
Я с самого детства очень любил рисовать. При этом рисование для меня всегда было способом что-то сочинять и рассказывать. Я помню, как в детском саду я с увлечением рисовал танковые баталии. Кроме обязательной победы «наших» всё остальное было непредсказуемо для меня самого, сюжет развивался сам собой, это было очень захватывающе, я мог рисовать целыми днями. Поскольку к концу баталии обычно всё взрывалось и горело, мои рисунки казались моему дедушке чёрными. Он их выбрасывал. Однажды он купил для меня набор бумаги с какими-то рюшечками, в тщетной надежде, что их-то я не трону. В садике тоже по-разному ограничивали мои возможности экспрессивно черкать, потому что экономили бумагу с карандашами и там, конечно, использовали рисунки по известному назначению. С последним я не мог примириться и очень обижался.
Как к этому выбору отнеслись Ваши родители?
Мои родители видели мою увлечённость, это их удивляло, но они не препятствовали мне пойти сначала в изостудию Дворца пионеров, потом в художественную школу, а когда пришло время, в художественное училище и художественный институт. Конечно, мой выбор не выглядел для них сколько-нибудь практичным, но они видели моё упорство и всегда меня поддерживали. Они до сих пор стараются приезжать на все мои значимые выставки. Например, на недавно прошедшую в «Октаве» встречу со зрителями мой папа специально приезжал из Нижнего Новгорода, хотя это было непросто — прямого сообщения между Нижним и Тулой нет.
Бывали ли у вас периоды творческого кризиса? Как Вы с этим справлялись?
Конечно! Кризис, сомнения и прокрастинация — важная часть работы. Я работаю очень долго, иногда делаю технологические перерывы в несколько дней, — часто необходимо ждать, чтобы высохли новые слои краски. Всегда есть что-то, что должно дозреть, обрести форму. Почти каждая новая работа проходит этап кризиса, особенно в тот момент, когда становится заметна разница между тем, что я хотел увидеть, и что я вижу у себя в мастерской. Часто причиной становятся установленные мною же рамки, в которых тому, что хочет прорасти, может быть тесно. Иногда нужно отвлечься и обратиться к другим практикам, не связанным с холстом и красками. Я снимаю видео, придумываю инсталляции, фотографирую, — у меня всегда есть то, на что можно переключиться. Всегда найдётся что-то, что подскажет выход из тупика. Иногда нужно просто начать работу заново.
Если вернуться к Вашей выставке, откуда это название — «Заводские анекдоты»?
«Заводские анекдоты» — это название неизданной книги Лии Азриэльевны Аронович. Лия известная дзержинская поэтесса, при этом она много лет работала главным технологом центральной лаборатории одного из дзержинских заводов. Она записывала разные абсурдные диалоги и ситуации, которые происходили вокруг. В «Заводских анекдотах» очень своеобразный юмор, много специальной терминологии, и они совсем необязательно смешные. Мой папа также написал книгу воспоминаний, которую назвал «Опусы из моей рабочей биографии». Эти «опусы» больше напоминают байки, — с одной стороны большинство историй очень смешные, с другой — иногда от них просто мороз по коже. Из моего детства я помню, как у нас дома на кухне всегда кипятилось постельное бельё, вода в котором всегда была жёлтой. Несмотря на то, что папа старательно мылся после каждой смены, простынь к утру всегда оказывалась жёлтой от паров смеси толуилендиамина в хлорбензоле. Эта смесь была необходима для производства сильнейшего (а сейчас запрещённого из-за его сильного канцерогенного действия) инсектицида ДДТ. Об этом его рассказ «Прозрачные тараканы и «китайский след»». Юмор на производстве был средством выживания. Несколько самых грустных глав папа посвятил авариям на производстве, из-за которых погибали люди.
На моей выставке я использую литературные фрагменты как голоса людей, которые звучали в этих цехах. Я расположил главы из книг рядом с моими картинами, в которых изображены полуразрушенные цеха. Например, рядом с работой «Цех 102» я разместил старое газетное фото моего папы и рассказ «Халкин-Гол», о событиях, которые происходили в изображённом интерьере. В этом же интерьере в моём фильме «Субъекты памяти» папа вспоминает о работе в цехе сорок лет назад.
На Вас, ребенка, не нагоняли ужас эта желтая вода, рассказы отца, окружающая обстановка?
Нет, наоборот, это казалось слишком обыденным и совсем не опасным. То ли дело стать пожарным или космонавтом!
Часто с утра в городе была сильная загазованность, особенно если ночью на каком-то из заводов случилась авария. Мой папа мог по запаху угадать, на каком производстве случилась утечка. Обычно к обеду туман рассеивался. Об этом, кстати, есть строчки песни — неофициального гимна Дзержинска:
«Проснешься ночью, а на улице туман
Но вы не бойтесь — это не надолго
Наступит утро и дихлорэтан
Уйдет туда, где Горький и где Волга».
В моём детстве разные химические запахи были привычными. Наш садовый участок был совсем рядом с «Белым морем» и его запах у меня прочно ассоциируется с выходными и огородом. Сейчас загазованность в городе бывает очень редко: большинство производств, которые отравляли воздух, закрыли. Но это тоже проблема, — в городе стало значительно меньше рабочих мест.
На выставке в Туле кроме литературных фрагментов можно было увидеть и Ваши фильмы. О чём они?
На выставке в Туле я показывал два фильма. Первый называется «Субъекты памяти», — то есть те, кто помнит, по-другому «носители памяти». В этом фильме мои родственники вспоминают про посёлок, где родились и жили в детстве. Там есть кадры, где мы с папой зажгли огонь в ямах, оставшихся от снесённых бараков. Получилось очень живописно: синяя зимняя ночь, лес и огненные ямы. Во второй части мои родственники вспоминают про заводы, на которых они работали, — там есть очень трогательные кадры с картинками из советских журналов, наклеенных на ящики заброшенной раздевалки. В третьей части я показываю шламонакопитель «Белое море» с дрона. Дело в том, что такие гигантские объекты, как «Белое море» невозможно охватить взглядом, находясь на земле. Поэтому я пригласил пилота квадрокоптера и нарисовал для него схемы движения. Сейчас я предпочитаю управлять дроном самостоятельно.
Мой второй фильм на этой выставке, «Химзавод», составлен как раз из таких съёмок. Дрон даёт ещё одну важную точку зрения — с высоты птичьего полёта. В фильме я смотрю с этой высоты на руины заводов. А в последних кадрах я предлагаю зрителю внимательно рассмотреть советскую мозаику 70-х годов, изображающую учёных-химиков будущего. Там есть, например, роденовский мыслитель с колбой в руках, или прекрасный зеленоглазый юноша-атлет, держащий над головой покорённый «мирный» атом. Вместо ядра у него цветок. Этот фильм я монтировал в прошлом году, когда три месяца жил в резиденции для художников в Париже. Фильм сложился сам, в нём изначально не было сценария и структуры. А саундтрек для него сделал мой брат, Леонид Отдельнов, вместе со своей нижегородской группой «KernHerbst».

Павел Отдельнов. «Руины. Весенний день». 2018 х.м. 150х200
В одном из своих интервью Вы сказали: «Привычный пейзаж стал казаться руинами прошлого». А каким Вы видите будущее?
Не так давно было 100 лет Октябрьской революции, и к этой дате открыли много капсул с посланиями к потомкам. Они были написаны людьми, верящими в прекрасное будущее, в котором точно не будет войн, люди будут покорять звёзды, а коммунизм наступит повсеместно. И конечно они, советские люди, рабочие и строители, построили это прекрасное будущее для нас, о чём нам, потомкам, не следует забывать. Все они были уверены, что будущее лучше и справедливее настоящего. Когда я читал тексты из этих капсул, у меня было ощущение, что эти люди оказались обманутыми.
Сегодня мало кто так же наивно думает о будущем и о том, что он строит его для своих потомков. Может быть, Илон Маск? Возможно, футурология всё так же существует в обществах, где не было таких больших потрясений и разочарований, как в России? Возможно, но я всё же думаю, что «дефицит будущего» — явление всеобщее и повсеместное, это своеобразный симптом сегодняшнего дня. Вокруг слишком много непредсказуемых факторов, всё кажется слишком неоднозначным и хрупким. Локальные конфликты, экономические кризисы, цена за баррель, международные скандалы, непопулярные реформы, теракты, санкции, манипуляции с историей. Конечно, это в той или иной мере происходило и раньше, но сейчас мы можем видеть это как процессы, происходящие онлайн, в режиме реального времени, и мы беззащитны перед ними. И сегодня совсем нет иллюзий по поводу обязательного движения в сторону социальной справедливости: всё может пойти вспять.
Может быть, сегодня уже невозможно такое будущее-утопия, о котором коллективно грезили в 20-м веке. Но дело не просто в том, что мы в одночасье стали скептиками. Для нас многое из того, что для людей 20 века было безусловным, оказалось неоднозначным. Будущее-утопия невозможно, потому что мы больше не верим в утопии прошлого.
Надеюсь, мы сможем вынести из нашего прошлого для себя полезные уроки. Нам ещё только предстоит осмыслить тот уникальный эксперимент, в который оказались вовлечены наши родители, дедушки и бабушки. И наверное, если мы сможем честно посмотреть на наше прошлое, то у нас есть будущее. Но будущее, конечно, всё равно будет не таким, какое мы можем себе представить.